Франц Кафка. Шум, тишина, гул и остаточный звук.
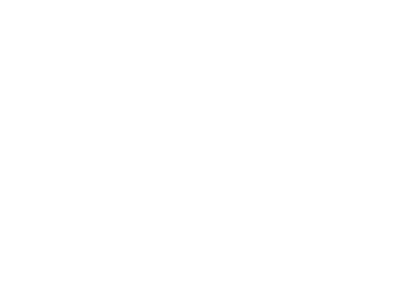
Поразмышляем вместе с философом Валерием Подорогой над языковой рефлексией Франца Кафки, называвшего себя «Kavka, галка, несуразная птица».
Этот удивительный человек-птица проводит нас в необыкновенный мир человеческой хрупкости и абсурда существования, проявляя имплицитные связи между человеком и миром, всерьез трансформирующие привычную реальность.
Этот удивительный человек-птица проводит нас в необыкновенный мир человеческой хрупкости и абсурда существования, проявляя имплицитные связи между человеком и миром, всерьез трансформирующие привычную реальность.
Этот удивительный человек-птица проводит нас в необыкновенный мир человеческой хрупкости и абсурда существования, проявляя имплицитные связи между человеком и миром, всерьез трансформирующие привычную реальность.
Мы приблизимся к восприятию мира Францем Кафкой в его желании отразить присутствие для этого мира. Таким образом, мы можем наблюдать, как мыслитель вступает в зазор между повседневностью языка и выслушиванием его разрешающих возможностей. К каким средствам прибегает автор, вслушиваясь в языковые формы, желая найти наиболее полное отражение себя в отношениях с миром? Попробуем следовать за экспериментами по выслушиванию, накапливая способность к рефлексии языковых форм нашего присутствия.
Начнем с признания Кафки: «Я хотел бы уметь рисовать. Я все время пытаюсь делать это, но ничего не получается. Только какие-то иероглифы». Рисунки для Кафки – спонтанные и подготовительные вариации им увиденного. А то, что им увидено – есть невидимое. Для Кафки писать, рисовать и видеть – является единым процессом захвата невидимого. Видеть невидимое – истинная страсть Кафки. Он пытается удержать невидимое перед своим взором. Его рисунки как оборванные линии: каждый набросок не закончен и вибрирует в такт нерешительной руке, словно стремится исчезнуть до того, как сможет обрести зрительно узнаваемый контур.
Напряжение слуха чрезвычайно велико в прозе Франца Кафки. Автор приглашает нас слушать. Но не просто слушать, а вслушиваться в то, что звучит в языке, когда он вдруг умолкает. Если использовать феноменологическую терминологию, Кафка стремится осуществить нечто подобное аудиальной эпохе – операцию, подвергающую полной деструкции саму способность говорить, непрерывно наделять мир смыслом. Итак, для того, чтобы описывать услышанное (а для нас с вами – создавать присутствие) нужно, чтобы пишущий умел услышать не язык в языке. Нужно уметь различать особые состояния языка: гул, тишину, шум и остаточные звуки.
Что такое шум? В «Дневнике» Кафки мы находим небольшой текст под названием Великий шум:
Мы приблизимся к восприятию мира Францем Кафкой в его желании отразить присутствие для этого мира. Таким образом, мы можем наблюдать, как мыслитель вступает в зазор между повседневностью языка и выслушиванием его разрешающих возможностей. К каким средствам прибегает автор, вслушиваясь в языковые формы, желая найти наиболее полное отражение себя в отношениях с миром? Попробуем следовать за экспериментами по выслушиванию, накапливая способность к рефлексии языковых форм нашего присутствия.
Начнем с признания Кафки: «Я хотел бы уметь рисовать. Я все время пытаюсь делать это, но ничего не получается. Только какие-то иероглифы». Рисунки для Кафки – спонтанные и подготовительные вариации им увиденного. А то, что им увидено – есть невидимое. Для Кафки писать, рисовать и видеть – является единым процессом захвата невидимого. Видеть невидимое – истинная страсть Кафки. Он пытается удержать невидимое перед своим взором. Его рисунки как оборванные линии: каждый набросок не закончен и вибрирует в такт нерешительной руке, словно стремится исчезнуть до того, как сможет обрести зрительно узнаваемый контур.
Напряжение слуха чрезвычайно велико в прозе Франца Кафки. Автор приглашает нас слушать. Но не просто слушать, а вслушиваться в то, что звучит в языке, когда он вдруг умолкает. Если использовать феноменологическую терминологию, Кафка стремится осуществить нечто подобное аудиальной эпохе – операцию, подвергающую полной деструкции саму способность говорить, непрерывно наделять мир смыслом. Итак, для того, чтобы описывать услышанное (а для нас с вами – создавать присутствие) нужно, чтобы пишущий умел услышать не язык в языке. Нужно уметь различать особые состояния языка: гул, тишину, шум и остаточные звуки.
Что такое шум? В «Дневнике» Кафки мы находим небольшой текст под названием Великий шум:
«Я хочу писать... я слышу, как хлопают все двери, как затворяют дверцу кухонной плиты. Отец распахивает настежь двери моей комнаты и проходит через нее в волочащимся за ним халате, в соседней комнате выгребают золу из печи, Валли спрашивает из передней, словно кричит через парижскую улицу, вычищена ли уже отцова шляпа, шиканье, которое должно выразить внимание ко мне, лишь подхлестывает отвечающий голос…».
«Я хочу писать, но слишком сильна помеха - квартирный шум». Оппозиция «шум-тишина» настолько очевидна, что никогда не вдумываешься в ее последствия. С одной стороны, шум столь навязчивый, но с другой – вовсе и не шум, а музыкальное произведение, некое первичное состояние мира. Можно ли слышать шум? Нет, ибо шум препятствует выслушиванию, оглушает или вовсе лишает способности вслушиваться. Как только шум начинают слушать, он перестает быть шумом. Кафка приглашает нас засечь шум, обнаружить место, из которого он осуществляет свое вторжение. Физические следы шума отыскиваются в звучании глагольных форм, которые несут в себе, как в капсулах, разрушительную звуковую энергию. Восприятие шума – производная от встречи атакующих согласных со слушающим телом... Перечитывая отрывки вслух, мы можем начать различать устойчивое дребезжание, клацание и шипение букв, превращающие текст Кафки – безмолвный и скользящий в своей грамматической простоте – в другой текст, разрывающийся на части от буйства обезумевших согласных.
Как мы можем, взяв тексты наших встреч, прочитывая вслух момент за моментом, услышать сплав тишины и шума, узнать другой текст – новый в своих возможностях, дать себя открыть? Такой опыт может стать возможностью для исследования интенциональности.
Кафка противопоставляет шуму оргии произнесений – гул письма. Принципы существования этих языковых явлений глубоко различны. Гул – это шум исправной работы. Гул блаженен, ибо он распространяется по всему слушаемому пространству, причем слушание достигает здесь высшей интенсивности и относится не к аудиальному органу, а ко всему телесному переживанию. Слушающий слышит, не различая. Гул неслышим. Он каждый раз являет гармонию не актуальных, а виртуальных звучаний мира. Вот почему гармония остается непостижимой. Пластика семи танцующих собак может служить прекрасным пояснением:
Как мы можем, взяв тексты наших встреч, прочитывая вслух момент за моментом, услышать сплав тишины и шума, узнать другой текст – новый в своих возможностях, дать себя открыть? Такой опыт может стать возможностью для исследования интенциональности.
Кафка противопоставляет шуму оргии произнесений – гул письма. Принципы существования этих языковых явлений глубоко различны. Гул – это шум исправной работы. Гул блаженен, ибо он распространяется по всему слушаемому пространству, причем слушание достигает здесь высшей интенсивности и относится не к аудиальному органу, а ко всему телесному переживанию. Слушающий слышит, не различая. Гул неслышим. Он каждый раз являет гармонию не актуальных, а виртуальных звучаний мира. Вот почему гармония остается непостижимой. Пластика семи танцующих собак может служить прекрасным пояснением:
«Они (собаки) не декламировали, не пели, они, в общем-то, скорее молчали, в каком-то остервенении стиснув зубы, но каким-то чудом наполняли пустое пространство музыкой...»
Существует еще одно языковое явление для Кафки – остаточный звук. Шипение, писк, храп, клацание, присвист. Это звук-обломок. Он не может быть воссоздан, подражательно повторен.
Он непроницаем и чужд всякому использованию. Чтобы уничтожить какие-либо представления о внешнем, о мире, внутреннее вытесняет из жизненного пространства все, что напоминает о внешнем. В том числе и гармонию понимаемого. Так входят в свои права звуки-обломки. Если материя шума является внешней для страдающего от него, то противоположностью ему является внутреннее состояние как поиск тишины и покоя, делание письма.
Размышления Кафки относятся к стихии письма, поскольку в этом, возможно, проявлялась единственная близость с миром. Он есть, потому что пишет. Пишущий в моменты письма претерпевает трансформации. Как и ищущая энергия контакта во встрече между людьми. Встреча проходит сквозь язык как телесная сила, деформирующая порядок, способная потеснить реальность организованного языка, разрушить предсказуемое. Мы можем попробовать высвободить что-то новое для произнесения, создавая опыт, опирающийся на различимость шума, тишины, гула или остаточных звуков.
Текст, посвященный размышлению о Кафке нужно искать здесь
Он непроницаем и чужд всякому использованию. Чтобы уничтожить какие-либо представления о внешнем, о мире, внутреннее вытесняет из жизненного пространства все, что напоминает о внешнем. В том числе и гармонию понимаемого. Так входят в свои права звуки-обломки. Если материя шума является внешней для страдающего от него, то противоположностью ему является внутреннее состояние как поиск тишины и покоя, делание письма.
Размышления Кафки относятся к стихии письма, поскольку в этом, возможно, проявлялась единственная близость с миром. Он есть, потому что пишет. Пишущий в моменты письма претерпевает трансформации. Как и ищущая энергия контакта во встрече между людьми. Встреча проходит сквозь язык как телесная сила, деформирующая порядок, способная потеснить реальность организованного языка, разрушить предсказуемое. Мы можем попробовать высвободить что-то новое для произнесения, создавая опыт, опирающийся на различимость шума, тишины, гула или остаточных звуков.
Текст, посвященный размышлению о Кафке нужно искать здесь



Автор статьи: Юлия Филатова











